Нынешний год явился замечательным совпадением дня Пасхи Христовой с юбилеем нашего журнала. Десять лет назад 20 апреля 2015 года был подписан в печать первый номер научно-публицистического журнала «Источник надежды».
Появление такого, принципиально нового для отечественного медиапространства печатного издания осуществилось в стенах Александро-Невской лавры по инициативе нового директора издательства «Невская лавра» архимандрита Нектария (Головкина). Этот удивительный человек, на счету которого, на тот момент, было уже около десятка восстановленных из руин православных храмов, вступив на новое для себя поприще, принёс с собой множество замечательных проектов, в числе которых был и будущий журнал.
Прошедшие 10 лет оказались для нас непростыми. Журнал создавался в тот период, когда многие городские издания-миллионники приказывали долго жить, не выдерживая конкуренции с современными масс-медиа, и увядали из-за отсутствия даже минимальной финансовой подпитки.
Но мы выстояли, и во многом благодаря поддержке наместника лавры епископа Назария (Лавриненко) – нашего главного редактора, да и всего редакционного коллектива в целом, проявившего искренний энтузиазм. Большинство сотрудников было занято другими проектами, и они жертвовали своим личным временем, принимая деятельное участие в рождении нового детища. Это – и Ольга Акимова – литературный редактор городской газеты «Вестник Александро-Невской лавры» и, одновременно, выпускающий редактор детского журнала «Вербочка». Это – и корреспонденты газеты Алиса Акимова и Екатерина Замараева. Это – и литературный редактор альманаха «Под сенью лавры» Татьяна Кожурина. Одна из лучших отечественных иллюстраторов художник Оксана Хейлик, творческие планы которой расписывались на многие месяцы, отложив все обязательства, создала прекрасную эксклюзивную обложку.
Огромная благодарность маститым заслуженным авторам, откликнувшимся, и бескорыстно поддержавшим новый, неизвестный им проект. К сожалению, некоторых уже нет с нами. Не так давно ушли из жизни замечательные писатели-учёные: агиограф Валерий Павлович Филимонов; кандидат физико-математических наук, богослов протоиерей Кирилл Владимирович Копейкин; писатель Николай Михайлович Коняев, о котором мы сегодня вспоминаем особо и обстоятельно.
Однако и нас не миновал грех некоторого уныния, когда в 2017 году финансовые проблемы поставили под вопрос существование журнала. Так или иначе, но, возможно – нет худа без добра. Новая жизнь неумолимо диктует новые правила. Вынужденный уход в интернет принёс свои, хотя и крайне неопределённые, как и всё там присутствующее, но, надеемся, положительные плоды. Если тираж печатного издания составлял 500 экземпляров, то на сегодняшний день среднее количество ежесуточных просмотров достигает 1,5 – 3,5 тыс. Недавно общее количество просмотров за весь период превысило 1 млн., а новых IP-адресов более 200 тыс. В числе этих адресов несколько десятков из США, КНР, Турции, Великобритании, Швеции, Финляндии.
За прошедшие годы редакционный коллектив значительно сократился: кто-то занялся новым делом, кто-то вернулся в прежнюю сферу деятельности, кто-то переместился в географическом пространстве, но их имена и лица по-прежнему в нашей памяти. Как говорил незабвенный Маэстро в легендарном фильме «В бой идут одни старики»: БУДЕМ ЖИТЬ!
Ну, а я остаюсь неизменно с Вами.
Ваш Георгий Ермолов










В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
Памяти Николая Коняева
Сентябрьским утром 2018 года я, как обычно, шёл на работу в своё издательство по двору Александро-Невской лавры и увидел издали похоронную процессию, двигавшуюся привычным маршрутом – Троицкий собор – Никольское кладбище. Зрелище привычное, хотя и нечастое: чести быть захороненным на Никольском удостаиваются лишь личности, имевшие значительные заслуги перед Церковью и Отечеством. Расстояние было немалое, однако среди провожающих мне удалось разглядеть несколько знакомых лиц. Процессия уплыла в ворота Никольского, а я, занимаясь привычными делами, ещё не догадывался, что дата 19 сентября 2018 года навсегда отложится в памяти.
Спустя несколько дней, привычно прогуливаясь по кладбищенским дорожкам, а Никольское – излюбленное место прогулок в перерывах между трудами праведными как насельников, так и сотрудников, я увидел вдалеке знакомую фигуру красивой женщины возле одной из новых могил. Подойдя ближе, с удивлением разглядел в ней Марину Викторовну Коняеву и узнал, что в те сентябрьские дни она стала вдовой. Стало досадно, что не хватило любопытства поинтересоваться тогда, кого провожают в последний путь знакомые мне люди.
С Николаем Михайловичем Коняевым судьба меня свела в 2014 году при неожиданных, а скорее, промыслительных обстоятельствах. Случилось так, что директором издательства Александро-Невской лавры стал замечательный человек, поднявший из руин не один храм, генератор идей и проектов архимандрит Нектарий (Головкин). Я же, на тот момент, занимался в лавре несколько иными, далёкими от журналистики делами, хотя и имел в своём жизненном багаже две изданные книги. Наверное, поэтому и получил от него предложение принять участие в развитии издательства. Планы о.Нектария содержали создание трёх, принципиально новых, журналов – детского, юношеского литературного, и академического, научно- публицистической православной направленности. Вот последний-то и было предложено создать мне. Задача представлялась нелёгкой, потому что для такого издания требовались серьёзные православные авторы-учёные. Но заманить в издание, никому не известное, маститых корифеев пера, да ещё на бескорыстных началах, не так-то просто. Но уж, назвавшись груздем, приходится с головой нырять в кузов. Далеко не всех авторов удавалось заинтересовать проектом с туманной перспективой, но о. Нектарий посоветовал обратиться к своему давнему знакомому и коллеге по работе в Комитете защиты русской культуры писателю Николаю Коняеву. Это имя на тот момент мне ни о чём не говорило, поэтому, прежде чем набрать его номер, по своему обыкновению обратился к интернету и обомлел от обилия титулов и званий. Звонить стало страшновато, но я всё-таки это сделал, и меня поразила доброжелательная готовность к бескорыстной помощи. Спустя пару дней обнаружил у себя в почте прекрасный литературный текст «Прогулка по Александро- Невской лавре», ставший настоящей жемчужиной очередного номера журнала, в числе не менее авторитетных имён.
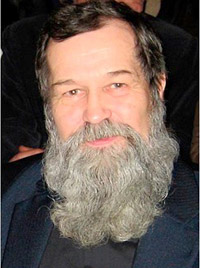
Так началось наше сотрудничество, к сожалению, не слишком продолжительное. Его тексты всегда отличались не только безупречным литературным стилем, но и глубоким знанием предмета. Научно-исторические материалы, поданные в непривычной литературной форме, обнаруживали неординарный аналитический подход. Это были не романы, как это сейчас популярно в среде псевдоисториков, а обстоятельные научные труды в литературной форме высочайшей пробы. Часто мне выпадала удача получать рукописи прямо из-под пера автора. Многие из них позже вошли в сборник «Небесная линия».
Случилось так, что финансовые проблемы вынудили издательство закрыть большинство проектов, задуманных архимандритом Нектарием. Перестал издаваться и мой журнал «Источник надежды». В поисках возможности его сохранить, в какой бы то ни было форме, мы создали специальный сайт «Кирилло-Мефодиевское чтение», на котором и стали выходить в виде ленты. Это привело к тому, что авторский коллектив распался. Каждому пишущему человеку важно тактильно ощутить свой опубликованный труд – перелистать страницы, вдохнуть запах типографской краски. Интернет ему не интересен. Интернет – братская могила идей, смыслов, стилей. Из всего авторского состава меня не оставил один Николай Михайлович, продолжая предоставлять свои великолепные тексты. К сожалению, многие из них появились на ленте уже после его смерти.
Формирование личности потомственного русского интеллигента – в подлинном значении этого слова – Николая Коняева состоялось под влиянием примера его отца – директора сельской школы, в которой Николай вместе с братом и сестрой проводил свободное от уроков время. В свою очередь учителя из отцовской школы часто бывали в их доме, ведя неспешные беседы за чашкой чая. Маленький Николай, по его словам, «очень долго не мог отделить зареченских учительниц от своих родных и, пожалуй, пока не пошёл в школу, жил в уверенности, что весь тот берег заселён моими тётушками. А родных у нас было немного».
Семья жила бедно, но в воспоминаниях Николая Михайловича всегда подспудно сквозила гордость за своих родных в нескольких поколениях. Это и брат бабушки Иван Алексеевич Шергин – издатель дореволюционного журнала «Вестник Севера», погибший на этапе ещё в 20-е годы. Бабушкины сёстры – монахини Крестовоздвиженского монастыря, сгинувшие в лагерях. Двоюродный брат отца, подвергнутый страшным пыткам на допросах, но не подписавший ни одного оговора. Вспоминая о семье своей матери, Коняев пишет: «Мне стало понятно, откуда в ней была такая глубокая вера, которую не могли поколебать и десятилетия жизни без Церкви. Настоятелем храма в Остречинах, который исповедовал и причащал их семью, был новомученик Российский Иоанн Беликов, расстрелянный в 1937 году. Когда я читал протоколы допросов отца Иоанна Беликова, на глаза навёртывались слёзы, но на душе становилось светло – с таким спокойным мужеством принял этот человек свой мученический венец».
Автобиографические воспоминания Коняева дают чёткое представление о природе его духовно-нравственной позиции, которой он не изменял до последних дней: «Никакие события взрослой жизни, встречи, никакие переживания не способны заслонить того, что было тогда. Более того… С каждым годом эти воспоминания становятся всё ярче и ярче, и, пытаясь найти решение какой-то проблемы, размышляя над каким-то вопросом, именно к этим воспоминаниям и обращаюсь я в первую очередь, а не к тому опыту, который накоплен во взрослой жизни…»
Православие вошло в его бытие органично, как вздох. Но в начале было Слово… Ещё в детстве, спонтанно, как в новой игре, «обнаружил в себе способность сплетать слова». Впервые случайно родившееся четверостишие пробудило в нём ощущение чуда: «…чистая радость заполнила моё существо, и не было пределов ей. Казалось, что этой радости хватит на весь мир». К моменту окончания школы созрела твёрдая уверенность, что заниматься будет только писательством. Потом состоялись первые публикации, а затем Литинститут, а в итоге – полторы сотни книг, не считая переизданий. В Библиографическом словаре «Русская литература ХХ века» Института русской литературы Российской академии наук говорится: «Чтение произведений Коняева всегда и серьёзное, и одновременно увлекательное занятие, но за острой фабулой и неожиданно обнаруженным фактом истории всё время слышится голос художника, пронизанный щемящей тоской по надмирному Свету и глубокой православной духовностью».
Характерная черта творчества автора – разнообразие жанров и литературных форм. Его образ мышления – это не только умозрительные представления писателя, но и безусловный научный подход, прослеживающий, как на фундаменте православия формировалась национальная государственность, идеология, национальный характер, да и сам русский язык: «Православие для России не просто конфессия. Православие для нас – государствообразующая сила. Оно сформировало язык нашего народа и его национальный характер, определило законы нашего государства и его культуру. И так и выстраивалась святыми князьями Русь, что совпадали пути спасения, и устроения русским человеком своей души с путями спасения и устроения государства».
Во всех трудах писателя лейтмотивом звучит раскрытие духовных смыслов русской истории. В этом кроется секрет возрастающего интереса к его работам именно в последнее, весьма тревожное время. Но, несмотря на этот факт и огромный библиографический послужной список, имя Коняева остаётся малоизвестно не только широкой публике, но и читающей. Поэтому очень важна популяризация воспоминаний тех людей, которые знали его лично, важна серьёзная литературоведческая работа по изучению, сохранению и продвижению его наследия, особенно в молодёжную среду. Более того, чиновникам от образования стоило бы задуматься о включении его произведений в школьные и вузовские программы взамен того хлама, которым они заполнены ныне. Возможно, в том, что сегодня так мало сказано о Коняеве, есть определённый глубинный смысл. Личность такого масштаба требует осмысления во времени: «Большое видится на расстоянии». «Творчество настоящего русского писателя – это всегда соработничество Богу». Как удивительно созвучно жизненное кредо Коняева строчкам из письма святителя Игнатия (Брянчанинова) к игумену Антонию (Бочкову): «Все дары Бога человеку достойны уважения. Дар слова, несомненно, принадлежит к величайшим дарам. Им уподобляется человек Богу, имеющему Своё Слово. Слово человеческое подобно Слову Божию постоянно пребывает при отце своём и в отце своём – уме, будучи с ним едино и вместе отделяясь от него неотдельно… Божественная цель слова в писателях, во всех учителях, а паче в пастырях – наставление и спасение человеков».
Отпевали Николая Коняева в Троицком соборе. Обряд совершил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин (Горянов), близкий друг усопшего, специально приехавший в Петербург. Перед началом богослужения владыка Константин произнёс проникновенную речь о значении творчества большого русского писателя. На Никольском были совершены краткая лития и процедура прощания. Зачитывались телеграммы соболезнования от губернаторов города и области. Прощальные слова произнесли представители союза писателей.
Могила Николая Михайловича находится в живописном месте на берегу Никольского пруда рядом с горбатым мостиком. В основании изящно выполненного ажурного кованого креста выбита в граните лаконичная надпись: «Николай Михайлович Коняев. Русский писатель». Многие ли из современных коллег усопшего понимают, какой глубочайший смысл и какая огромная ответственность заложены в этих двух простых словах? Многие ли понимают, что, получая членский билет СП, они не статус приобретают, но принимают присягу на служение? Коняев принял эту присягу задолго до получения билета. Это произошло ещё тогда, в детстве, когда «чистая радость заполнила его существо, и не было пределов ей». Это и был знак Свыше, благословение, которое даётся только избранным. Слова эти, простые и не пафосные, в полной мере соответствуют той жизни, которую прожил этот великий труженик, исполнивший присягу с честью и до конца, и для которого СЛОВО не только альфа, но и омега его Божественного предназначения.
На могиле Николая Коняева долгое время стоял простой деревянный крест, и именно эта простота отражала саму сущность не просто профессионального призвания, но понимания его как послушания. Именно так, как понимал его Коняев и как ему следовал всю свою жизнь, которой и доказал главное – в начале всегда будет СЛОВО.