
МИХАИЛ ШУЛИН
филолог-славист
журналист
«РАССУЖДЕНИЕ О ПОЛЬЗЕ КНИГ ЦЕРКОВНЫХ»
Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной.
П.А. Вяземский
По благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 2010 года отмечается День православной книги. Проводятся лекции, конференции, презентации новых публикаций, затрагивающих широкий спектр православной проблематики. Точкой отсчета для этого праздника стал день 1 марта 1564 года, когда Иван Фёдоров издал «Апостол» – первую датированную русскую печатную книгу. Тираж ее, немалый по тому времени – порядка 2000 экземпляров – был выполнен на высочайшем уровне, будучи оформлен гравюрами, виньетками, оригинальным орнаментом.
Типография, где работал Иван Фёдоров – государственная, основанная по указу государя Ивана Грозного. Но следует заметить, что книги на славянском языке выходили и ранее – сам Иван Фёдоров ранее печатал книги на Западе. Белорус Франциск Скорина напечатал Апостол в 1525 году. Выходили славянские книги и на Балканах. Но для нас 1564 год – веха русского книгопечатания, ведь с этого времени и до наших дней традиция не прерывалась, за исключением, пожалуй, периода большевистского безбожия.
С введением Патриаршества, при сыне Ивана Грозного Фёдоре, типография, основанная Иваном Фёдоровым, значительно разрослась. Стали издаваться, что важно, и гражданские книги – учебники («Азбука» Бурцева 1634 г., «Хитрость ратного строения пехотных людей» 1647 г.,), Свод законов Московской Руси – «Соборное уложение» 1649 г. Появилась правИльная палата – редакторский отдел, а тиражи («заводы») пошли на тысячи.
Конечно же, все богослужебные книги издавались на церковнославянском. Именно здесь возникает главный вопрос – почему и сейчас мы читаем церковные книги на славянском? Не удобнее ли было бы перевести службу на русский? Так стало бы понятнее новообращенным, проще учить молитвы и понимать чин. Не так ли?
Но, на наш взгляд, проще не значит лучше.
Кирилл и Мефодий всю жизнь посвятили борьбе за славянскую Литургию. Их усилиями Слово Божие стало понятно для новообращенных христиан. Западная Европа веками пользовалась латынью в качестве литургического языка, тогда как наши предки с самого начала могли писать на языке, понятном любому из них. Благодаря этому удалось избежать изнурительных религиозных войн, веками опустошавших Европу. Для католиков Литургия на национальных языках была узаконена только на II Ватиканском соборе в 1961 г.
Так чем же ценен церковнославянский язык?
Для науки это первая письменная фиксация славянской речи, бесценный кладезь сведений о древнем состоянии нашего и других славянских языков. Факты этого языка помогают понять и осмыслить ряд особенностей современных славянских языков. В плане лексики старославянский долгое время являлся источником пополнения словарного запаса. Например, всем знакомые слова вождь, враг, храм, ладья – заимствованы из церковнославянского языка. Показательны в этом отношении и всем известные библеизмы: «хлеб насущный», «глас вопиющего в пустыне», «нет пророка в своем отечестве», прочно вошедшие в русский язык и не воспринимаемые уже как нечто заимствованное.
Историческая просветительская роль церковнославянского в том, что в дореволюционную эпоху целые поколения людей из непривилегированных сословий учились читать и писать (см. «Детство» М. Горького, «От двуглавого орла к красному знамени» П.Н. Краснова и др).
Старославянский язык выделил славянскую языковую общность среди других языковых общностей. Это важно тем, что в основе восприятия любой культуры лежит представление не только о ее тождественности и связи с другими культурами, но и о ее своеобразии и индивидуальности. Уже в Х веке монах Храбр в своем трактате «О письменех» – по сути дела, первой филологической работе о нашем языке – определенно отмечал своеобразие букв славянской азбуки:
«Но како может ся словенскии писати добре греческими письмены Богъ, или животъ, или zело, или церковь, или чаяние, или широта, или ядь, или оудъ, или юность, или языкъ, и ина, подобна симъ…»
Именно теперь мы подходим, как представляется, к ключевому моменту. Как сказано было выше, для любой культуры, в том числе и церковной, важно понимание не только ее общности с другими явлениями, но и обособленности. Литургия и богослужение вообще, проводимые на церковнославянском языке, отсылают нас к древней традиции, связывают с десятками поколений предков, молившихся до нас именно так. С другой стороны, налицо сакрализация богослужения – служба на церковнославянском сразу показывает, что Храм, Церковь – это нечто особенное, отличающееся от обычной мирской жизни, хотя и связанное с нею. Чтобы понять, вникнуть в богослужение, нужно приложить усилие, выработать в себе определённую привычку, потому что, как известно, «Царство Небесное силою берется» (Мф 11:12).
Следует также отметить, что для Церкви как организации характерен традиционализм, и ко всяким нововведениям следует относиться с большой осторожностью. К чему приводит упрощение, мы видим в протестантских церквях, где проповедники, а за ними молящиеся, пляшут и поют, не сосредотачиваясь на внутреннем мире, умной молитве.
Благодаря знанию церковнославянского языка становятся доступны первоисточники, главный из которых Библия. Важно знать, что отличия церковнославянского варианта и синодального перевода достаточно велики, особенно в части Ветхого Завета. Но кроме Библии существует огромный пласт литературы на славянском языке. Тут и стихи, драматургия (Симеон Полоцкий), переписка-памфлет (Иван Грозный и Андрей Курбский), философские мысли ( сборник «Пчела»), переводы («Летописец еллинский и римский», историография («Лицевой летописный свод), и многое другое.
Значение старославянского языка для современного общества очевидно. Несколько лет назад Патриарх предлагал ввести его преподавание в школах по желанию, но идея эта встретила противодействие либеральных кругов и была похоронена. Меж тем именно церковнославянский язык, не подверженный современным влияниям, мог бы играть кодифицирующую роль для современного русского литературного языка.
В свете рассматриваемого вопроса, представляется необходимым напомнить о некоторых различиях церковнославянского и русского. Не пытаясь осуществить подробный анализ, обратим внимание на ряд наиболее существенных моментов, отличающих фонетику, морфологию и лексику наших языков.
Первое, с чем сталкивается человек при знакомстве с новым языком – произношение и написание. При кажущейся простоте решения данного вопроса – казалось бы, что стоит запомнить несколько новых букв – есть ряд моментов, в которых нередко допускаются ошибки, являющиеся, на наш взгляд, следствием недостаточно внимательного отношения к старославянской фонетике. Так, при чтении недопустимо «аканье», то есть произношение «а» вместо «о» в безударной позиции, например: рожденна, несотворенна должны читаться именно так, а не рождённа, несотворённа, как мы произнесли бы это по-русски.
Кроме того, важно обращать внимание на ударение. В церковнославянском, как и в русском, ударение свободное, то есть незакрепленное за каким-либо слогом, как во французском, польском, финском или чешском. В ряде слов при чтении возникают проблемы с этим, например, часто встречаются ошибки в словах зело, рече, знамение, благовест.
Усложняет чтение и восприятие то, что в церковнославянском используются не привычные нам цифры, а свои, обозначаемые буквами церковнославянского алфавита: .е.хлебъ и .в.рыбе. Обратим внимание и на такой момент: слова, пишущиеся под титлом – знаком сокращения – требуют запоминания или обращения к специальному словарику, например, аплъ – апостол, еппъ – епископ, стль – святитель, нне – ныне.
Чтение также усложняется тем, что знаки препинания в современном русском и церковнославянском неодинаковы. Двоеточие может также означать точку с запятой или многоточие, точка с запятой соответствует современному знаку вопроса, кавычки отсутствуют. Кроме того, заглавные буквы употребляются только в начале предложения, а порой и абзаца, имена собственные, названия городов и областей употребляются со строчной буквы (крещение иоанново с небесе ли бе, вниде иисус в капернаум).
Но самой важной, на наш взгляд, составляющей языка является грамматика. Грамматика – это костяк языка. Без должного понимания грамматики никакой язык не изучить – попросту невозможно будет понять, как правильно должны сочетаться слова в предложении. В нашем случае задача облегчается тем, что грамматический строй исследуемых языков во многом схож. Это объясняется тем, что грамматический строй унаследован нашими языками из праславянского. Кроме того, старославянский оказал непосредственное влияние на формирование современного русского литературного языка. Отсюда и общность.
Тем не менее, есть ряд существенных различий. Так, существительные имеют более сложную форму склонения. Свои особенности имеют и прилагательные, где краткие выступают в функции определения: нов дом, нова дома, нову дому и т.д. Глагол в старославянском обладает более развернутой системой времен – есть четыре прошедших и два будущих времени. Числительные в ту эпоху еще не до конца оформились в отдельную часть речи и назывались счетными словами
И наконец, лексика. Словарный состав любого языка – пожалуй, самый наглядный, самый интересный его пласт. В отличие от произношения и правописания, носящих в себе скорее обслуживающий для языка характер (ведь это скорее форма, в которую облечен смысл), и суховатой грамматики, которая является в некоторой степени формулами, лексика, то есть словарный состав, дает наиболее наглядное представление о языке, тут легко подбираются примеры, проводятся параллели, находятся аналогии. Но для образованного человека очевидно, что чем ближе языки друг к другу, тем чаще встречается явление межъязыковой омонимии – наличия одинаковых слов с разным значением. В близком языке многое кажется понятным, поэтому ошибиться легко: живот – жизнь; позорище – сцена, арена, зрелище; лесть – ложь, хитрость; вина – причина; наказание – наставление; возраст – рост; ниже – и не, также не; прозябати – прорастать; выну – всегда. Подобные слова называют «ложными друзьями переводчика», посему при чтении Библии, творений святых отцов, вообще старых текстов не следует пренебрегать словарем, ведь недопонимание тут фатально. Кроме того, частое обращение к словарю увеличивает словарный запас, и впоследствии он будет требоваться все реже.
Важно отметить, что церковнославянский язык – язык живой, на нем не только идет богослужение, но и создаются новые произведения. Ввиду канонизации новых святых возникает необходимость создания акафистов, молебнов, иного церковного окормления.
Подводя итоги, отметим важность изучения и знания церковнославянского языка с нескольких позиций. Во-первых он важен для сохранения эталона богослужения, как неподверженный современным влияниям. Во-вторых, этот язык полезен для глубокого понимания современного русского языка и для восприятия древнерусской культуры во всем ее многообразии.
М.В. Ломоносов в своей работе «Рассуждение о пользе книг церковных» говорил: «Рассудив такую пользу от книг церковных славянских в российском языке, всем любителям отечественного слова беспристрастно объявляю и дружелюбно советую, уверясь собственным своим искусством, дабы с прилежанием читали все церковные книги».
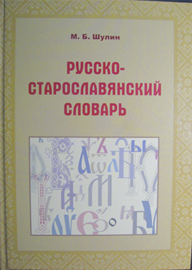
По вопросам приобретения словаря обращаться:
Michail Borisowitsch <altslawisch@gmail.com>

монах Ферапонт (Рыбин)
насельник Кирилло-Белозерского монастыря
СЛАВЯНО-РУССКИЙ ЯЗЫК НЕОСПОРИМО ПРЕВОСХОДЕН
Языковая война, которая ведётся против России представителями либерально-иноагентных кругов и структур, гораздо опаснее войны информационной. Ведь она бьёт по нашим словесно-родовым корням. Словесно-разумное начало является главным в человеке. Именно оно возвышает нас над бессловесными тварями и придаёт нам царское достоинство образа Божия. Поэтому весьма важно, какими словами мы мыслим, говорим и пишем. Не менее важно, что слышим и избираем для чтения.
В 1825 году непревзойдённый русский поэт Пушкин писал: «Как материал словесности язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива». Единодушно с Пушкиным мыслил президент Российской Академии наук А.С. Шишков: «Я почитаю язык наш столь древним, что источники его теряются во мраке времён… Кто даст себе труд войти в неизмеримую глубину языка нашего, и каждое его слово отнесёт к началу, от которого оно проистекает, тот, чем далее пойдёт, тем больше находить будет ясных и несомнительных тому доказательств. Ни один язык, особливо из новейших и европейских, не может в сём преимуществе равняться с нашим… Язык наш превосходен, богат, громок, силён, глубокомыслен. Надлежит только познать цену ему, вникнуть в состав и силу слов, и тогда удостоверимся, что не его другие языки, но он их просвещать может». («Славянорусский корнеслов». СПб., 2002. С. 8, 9, 12.)
К сожалению, ныне нет ни Пушкиных, ни Шишковых, и мы бездумно, с гордым пренебрежением всё более и более подменяем слова родной речи словами чужеземными. Употребляем суррогатное, холодное понятие «спонсор» вместо светящихся добром русских слов «благодетель, благотворитель». В банковской сфере уже давно уволили «контролёра», а на его место водворили «менеджера». Одна из авторитетнейших и старейших столичных газет (дважды орденоносная) предпочитает называть главу Федерального Собрания и Государственной Думы бездушным словечком «спикер» вместо родного слова «председатель», которое пока ещё не изъято из официальных документов. Что же говорить о других печатных и электронных изданиях? Многие учреждения и их отделения стали называться офисами, будто от этого повышается их статус.
Дать себе русское название считается унизительным. По Конституции русский язык является государственным, а на деле он зачастую оказывается в беззащитном и бесправном положении. Примеров можно привести тысячи. Здесь идёт речь не о научной литературе, в которой иностранные термины бывают уместны, а о русском языке как духовно-родовой основе нашей личной и государственной жизни. Ведь корни славяно-русской речи не землёй покрыты, а к Богу Слову восходят, Его животворной силой питаются. Славяно-русское слово, озарённое светом Бога Слова, зиждет народное и государственное единство. Без сего слова было бы немыслимо триединство «Православие. Самодержавие. Народность», а значит не было бы и величайшего в мире государства.
Бесконтрольное и ничем не оправданное вытеснение из родной речи красивых, многозначных, глубоких по смыслу слов и замена их иноземными суррогатами становится государственно и нравственно опасной. Ведь таким образом исподтишка ведётся постепенное опустошение души народной. 8 августа 2024 года Президентом В.В. Путиным подписан указ № 314 «Об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения». Совершенно очевидно, что ни историческое, ни какое-либо иное просвещение без языка не бывает. Русский язык един с церковнославянским таким же образом, как дерево с корнями. Не случайно же Пушкин употребил выражение: «язык славяно-русский». В языковой войне Россия укрепила бы и защитила свои позиции, если б в школах после столетнего перерыва стали изучать не только современную часть славяно-русского языка, но и древнюю. Дети бы поняли, какое словесное сокровище даровано нам Богом Словом. Тогда в них не возникнет желание низменно и бездумно подражать Западу своей речью и поведением. Тогда они станут мудрыми пчёлами, взимающими в свою душу лишь ценный нектар, а не всё без различия. Тогда ползучая интервенция Запада в словесной области потерпит полное поражение.
Почему же сегодня нам нравится фальшиво блистать инязами модератор, софт, эмитент и неисчислимым множеством других? Во-первых, минуло более 100 лет, как наше образование лишилось изучения древней части славяно-русского языка. Поэтому мы должным образом не понимаем и не ценим родную речь. (Примечателен тираж «Славянорусского корнеслова»: в 2002 г. 990 экз., в 2005 г. 500 экз.) Во-вторых, мы движимые пустым и глупым тщеславием, горделиво растём в собственных глазах, когда пересыпаем речь иностранщиной к месту и безместно. В-третьих, в нас ещё живёт вирус лакейства перед Западом, искусно всеянный в наши души либералами, которые внутренне подчиняются ползучему интервенту по имени диавол.
Ободримся: в русских сказках змей ни разу не победил. А в центре нашего государственного герба святой воин Георгий побеждает дракона поганого, который бывает тайным вдохновителем и руководителем разного рода войн против нас и Руси Святой.
P.S. Прислушаемся к словам нашего великого писателя Ивана Сергеевича Тургенева: «Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас».