Христос проходил по верхней аллее Рая и остановился на полянке с розовой травой, где обычно играли Нерожденные дети. Среди них попадались и другие, уже побывавшие на земле и почему-нибудь быстро вернувшиеся. Они мало что помнили; вся разница с Нерожденными у них была та, что они уж наверно никогда не родятся. Это нисколько не мешало им всем играть вместе.
Увидев Христа, дети окружили Его. Без всякого дела, просто так, для удовольствия: были к Нему привязаны. Но одна Девочка, из Нерожденных, осталась в сторонке. Христос поглядел на нее, и девочка тотчас подошла (в Раю все делается тотчас, и говорится тотчас: ведь скрыть ничего нельзя).
– Я хочу родиться, – сказала Девочка. – Сейчас же.
– Что значит – «сейчас же»? – спросил Христос.
Девочка не знала, а потому только повторила:
– Хочу родиться.
Слово – «хочу», или – «не хочу». Очень редко слышится в раю. (Но бывает, конечно). А редко не потому, что там никто не – «хочет» чего-нибудь, или не – «не хочет». Но по той простой причине, что всякое – «хотенье» обычно сливается там с исполненьем, и обратно: исполненье с хотеньем. На этот раз случилось иначе. Девочка захотела родиться не тогда, когда ей надо было этого захотеть.
– Почему? – спросил Христос.
– Хочу видеть елку. Вот этот мальчик, – указала на одного Вернувшегося, – рассказывал, пока не забыл, что там, внизу, елка, свечки … И так, так весело было ему на елке.
Девочка торопливо объясняла, и это опять было Раю несвойственно: там не говорят много, ведь и так все тотчас понимается.
– А ты хотел бы еще елку? – спросил Христос у вернувшегося Мальчика и поглядел ему в глаза, чтобы он немножко вспомнил: елка, свечки …
Мальчик засмеялся.
– Зачем? Звездочки …
Но Девочка была упряма:
– Не хочу звездочек. Хочу свечек, хочу родиться.
Христу стало ее жалко.
– Хорошо, – сказал Он. – Родиться – ты родишься, когда в самом деле захочешь. А елку увидишь … сейчас же, – прибавил Он, улыбнувшись. – Мы с тобой вместе вниз спустимся. Я тебе разные елки покажу.
Так как и это в Раю было не совсем обычно, Девочка не поняла, не знала, радоваться ли, сомневалась: тот мальчик видел елку, потому что родился; она не родится, а елку увидит? ..
– Не думай так, – строго сказал Христос и взял ее за руку. – Пойдем.
И они отправились.
Сначала Девочка почувствовала что-то новое, неприятное: холод, но она этого не знала. Только руке было хорошо, за которую ее держал Христос; не обыкновенный, райский, а мальчик, такой же маленький, как она сама.
Потом стало теплее: Девочка увидела, что они – в закрытом коробке, где была сероватая полутьма и стоял рев.Привыкнув немножко, Девочка различила в полутьме детей, разных форматов: они двигались и кричали дикими, острыми голосами. Крепко обвязаны темным, но прыгают и топочут, крутясь вокруг чего-то. Девочка пыталась рассмотреть, что это, и наконец увидела, посреди коробка, мертвое (зарезанное) дерево с еще зелеными, но умирающими лапками-ветками. Меж лапок тускнели кое-где огоньки; к самим лапкам привешены были тяжести разные, длинные и короткие, посветлее и почернее.
Девочка заметила, что и она крутится с детьми вокруг дерева. За правую ручку ее тащил огромный, явно рожденный, мальчик: и руке было нехорошо (Девочка не знала, что это называется «больно»): но левой рукой она держалась за Христа: если бы Он ей кое-чего попутно не объяснял, она бы ровно ничего не понимала.
Огоньки на дереве стали между тем гаснуть. Зажглись другие, сбоку, большие, желтые и тоже тусклые. Дерево зашаталось; у кричащих детей были теперь в руках разные гадкие вещи, темные и плотные: то широкие, с колесами, то еще шире, с колесиками: или узкие палки с дырой на конце.
«Это не живые штуки, мертвые, – объяснял неслышно Христос. – Их люди себе устраивают, чтобы двигаться, а палки, чтобы убивать. Здесь они маленькие, игрушки, а настоящие – большие. Называются машинами». Но Девочка не понимала машин, ни больших, ни маленьких, ни как в машины играть, ни зачем из палок убивают. Спросить, однако, не успела: толстый мальчик около нее поссорился, из-за какой-то машины с другим, поменьше: отнял машину и стал ею же маленького колотить по голове. Оба, при этом, оглушительно вопили. Так было, пока не показались из полутьмы длинные люди и, тоже крича, мальчиков не развели.
Все это еще ничего бы: но тут внезапно заорал маленький коробок в углу, и так раздирающе, так ужасно, что Девочка задрожала и схватилась за Христа. «Это ничего, это ихняя музыка, – сказал Христос. – Люди поют, тоже через машину». Но Девочка уж больше не могла: осовела, заплакала бы, если б была рожденная. Христу опять стало ее жалко; не возвращаться сразу домой (как Девочке неясно хотелось) не имело смысла. И Он сказал: «Подожди, это мы были у богатых людей (которых называют «счастливыми») на их богатой елке. Давай еще хоть одну поглядим».
 Пошли. Потихоньку шли, скоро ли, – но увидела Девочка другой коробок, поменьше, тоже темноватый, но посветлее. Белая постелька. На постели, прислонясь к подушкам, худенький больной мальчик в беленькой рубашке, а около, на столике, крошечное деревцо, но живое, корни в горшке с землей. На деревце горели разноцветные огоньки, тускловатые; но мальчику они казались, должно быть, очень светлыми. Он весело поздоровался с детьми. Христос ему сказал громко: «Мы на твою елку пришли».
Пошли. Потихоньку шли, скоро ли, – но увидела Девочка другой коробок, поменьше, тоже темноватый, но посветлее. Белая постелька. На постели, прислонясь к подушкам, худенький больной мальчик в беленькой рубашке, а около, на столике, крошечное деревцо, но живое, корни в горшке с землей. На деревце горели разноцветные огоньки, тускловатые; но мальчику они казались, должно быть, очень светлыми. Он весело поздоровался с детьми. Христос ему сказал громко: «Мы на твою елку пришли».
– Это мама мне устроила, – засмеялся больной мальчик. – Сегодня Христос родился.
Нерожденная Девочка хотела сказать, что это и есть Христос, тот мальчик, который держит ее за руку. Но громко говорить она не умела, а потому только улыбнулась в ответ. В коробке становилось все светлее. Однако, девочка заметила, что это не от огоньков на деревце, а от глаз больного мальчика, когда он на них смотрит. В коробок вошла большая людская женщина, и он сказал ей:
– Мама, у меня гости. На елку ко мне пришли. Дети.
У женщины в руках был крошечный ребенок. Девочка взглянула на него и вдруг – узнала: да ведь с ним они вместе играли, с нерожденным еще! Ребеночек поглядел – и тоже ее узнал: он еще ничего не забыл, все помнил, пока не мог ни говорить громко, и ничего по-здешнему, по нижнему, делать. Мог, правда, плакать (сразу научился!), но это памяти не мешало, так как говорящие люди слез все равно не понимают.
Ребеночек отлично умел смотреть и улыбаться. Он Девочке и улыбнулся. И Христу тоже, потому что и Его узнал. – Великолепная у меня елка, – сказал ,больной мальчик. – Правда? Ничего, что крохотная. Еще лучше. А сегодня ангелы поют на небесах, правда? Только мы их не слышим.
Девочка хорошо их слышала, уж давно; слышал и ребеночек, – улыбался. Ей стало ужасно жаль больного мальчика, и она сказала Христу:
– Возьмем его домой. И другого тоже. Обоих возьмем. Но Христос покачал головой.
– Нет, пусть останется. Видишь, какой он: маленькой, темненькой елке, и той рад. Он потом придет; тогда ему дома у нас еще лучше будет, потому что сам он будет лучше. И маленький останется. Женщина хочет, чтоб оба остались: и я хочу.
Девочка вздохнула. Она, хоть и нерожденная, кое-как побывав на земле, уже понимала грусть.
– Куда же вы? – сказал больной мальчик. – Посидите. Еще не догорела елка.
– Нет, пора, нас дома хватятся. Выздоравливай. И Христос поцеловал его. Поцеловал и ребеночка: он рассмеялся и сказал глазами: «Приходи опять».
Коробок был уже гораздо светлее, чем когда они пришли. Ну, не такой, конечно, свет, какой встретил их у знакомых голубых дверей, Рая. (Может быть, и не голубых, а зеленых).
Христос еще держал заруку нерожденную девочку, но уже был обыкновенным, привычным райским Христом и глядел на нее, улыбаясь. Она знала, о чем. Он спрашивает, но не знала, что отвечать. Хочет родиться? Не хочет? Ужасно в темноте, с железными игрушками-машинами. Но хорошо побыть с больным Мальчиком. Здесь, в Раю, на свету, тоже хорошо играть …
– Ничего, – сказал Христос. – Потом ответишь. А родиться – это уж как мы с тобой оба захотим. Теперь ступай, беги к своим, на сиреневую площадку. Расскажи им, как ты на елке была. Да торопись, а то забудешь.
Зинаида Гиппиус, 1938
 Стены побелены голубовато, с синькой; они мягко, скругленно сходятся с потолком; легкие полосы выдают, как ходила кисть — сверху вниз или с боку на бок. В углу икона — Николай Угодник. Святой строг, бородат, тонконос, еле виден в коричневом сумраке старой доски; от возраста она изогнулась корытцем. Перед иконой — лампадка рубинового стекла; под ней, на широкой ленте, лиловое бархатное пасхальное яйцо; золотые позументы на нем, если пальцем потрогать, шершавы.
Стены побелены голубовато, с синькой; они мягко, скругленно сходятся с потолком; легкие полосы выдают, как ходила кисть — сверху вниз или с боку на бок. В углу икона — Николай Угодник. Святой строг, бородат, тонконос, еле виден в коричневом сумраке старой доски; от возраста она изогнулась корытцем. Перед иконой — лампадка рубинового стекла; под ней, на широкой ленте, лиловое бархатное пасхальное яйцо; золотые позументы на нем, если пальцем потрогать, шершавы.
 Как прекрасно, что в жизни человека так много еще не предугаданного, запредельного, его сознанию не подчиненного. Даровано судьбой и той самой силой, наверное небесной, прикоснуться человеку к своей единственной “тайне”, хранить ее в душе, нести ее по жизни как награду и, пройдя сквозь всю грязь бытия, … не оскверниться… сберечь до исходного света, до последнего дня то, что там, в глубине души, на самом ее донышке хранится и тебе, только тебе, принадлежит…
Как прекрасно, что в жизни человека так много еще не предугаданного, запредельного, его сознанию не подчиненного. Даровано судьбой и той самой силой, наверное небесной, прикоснуться человеку к своей единственной “тайне”, хранить ее в душе, нести ее по жизни как награду и, пройдя сквозь всю грязь бытия, … не оскверниться… сберечь до исходного света, до последнего дня то, что там, в глубине души, на самом ее донышке хранится и тебе, только тебе, принадлежит…
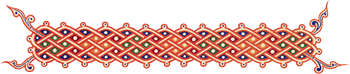

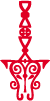


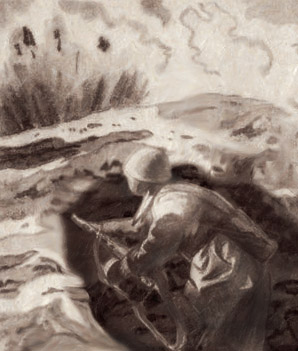 Сотни снарядов и мин, со свистом и воем вспарывая горячий воздух, летели из-за высот, рвались возле окопов, вздымая брызжущие осколками черные фонтаны земли и дыма, вдоль и поперек перепахивая и без того сплошь усеянную воронками, извилистую линию обороны. Разрывы следовали один за другим с непостижимой быстротой, а когда сливались, над дрожавшей от обстрела землей вставал протяжный, тяжко колеблющийся, всеподавляющий гул.
Сотни снарядов и мин, со свистом и воем вспарывая горячий воздух, летели из-за высот, рвались возле окопов, вздымая брызжущие осколками черные фонтаны земли и дыма, вдоль и поперек перепахивая и без того сплошь усеянную воронками, извилистую линию обороны. Разрывы следовали один за другим с непостижимой быстротой, а когда сливались, над дрожавшей от обстрела землей вставал протяжный, тяжко колеблющийся, всеподавляющий гул.
 Свете тихий, Свете ясный,
Свете тихий, Свете ясный, Отец мой в прошлом году купил кобыленку, да еще не одну, а с жеребенком-сосунком, и мы стали уже не бобыли безлошадные, а люди как люди. Теперь, когда я подрос, самый расчет было свою лошаденку купить, работать-то теперь у нас есть кому на ней. Сам отец терпеть не мог работы на лошадях. Он согласен был зимою пилить и колоть дрова, летом таскать носилки с кирпичом и известью, чем возиться с лошадью. Таков уж у него нрав был.
Отец мой в прошлом году купил кобыленку, да еще не одну, а с жеребенком-сосунком, и мы стали уже не бобыли безлошадные, а люди как люди. Теперь, когда я подрос, самый расчет было свою лошаденку купить, работать-то теперь у нас есть кому на ней. Сам отец терпеть не мог работы на лошадях. Он согласен был зимою пилить и колоть дрова, летом таскать носилки с кирпичом и известью, чем возиться с лошадью. Таков уж у него нрав был. У
У К
К Пошли. Потихоньку шли, скоро ли, – но увидела Девочка другой коробок, поменьше, тоже темноватый, но посветлее. Белая постелька. На постели, прислонясь к подушкам, худенький больной мальчик в беленькой рубашке, а около, на столике, крошечное деревцо, но живое, корни в горшке с землей. На деревце горели разноцветные огоньки, тускловатые; но мальчику они казались, должно быть, очень светлыми. Он весело поздоровался с детьми. Христос ему сказал громко: «Мы на твою елку пришли».
Пошли. Потихоньку шли, скоро ли, – но увидела Девочка другой коробок, поменьше, тоже темноватый, но посветлее. Белая постелька. На постели, прислонясь к подушкам, худенький больной мальчик в беленькой рубашке, а около, на столике, крошечное деревцо, но живое, корни в горшке с землей. На деревце горели разноцветные огоньки, тускловатые; но мальчику они казались, должно быть, очень светлыми. Он весело поздоровался с детьми. Христос ему сказал громко: «Мы на твою елку пришли». В домовые, маленькие церкви мы ходили по вечерам, ко всенощной, а литургию я представляю почему-то непременно в большом храме и непременно в погожий, летний или весенний день, когда синеватый, пронизанный ладанным дымом солнечный столп косо падает откуда-то сверху, из купольного окна. Округло, выпукло блестит золото предалтарного иконостаса. Пронизанная светом пурпурно алеет в прорезях царских врат таинственная завеса. Все радует меня, трогает, веселит мое сердце. И раскатистые, гудящие возглашения дьякона, и наплывающие, набегающие на эти возглашения «Господи, помилуй» и «Подай, Господи!» хора, и истошный и вместе с тем веселый, радующий почему-то сердце крик младенца перед причастием, и запахи деревянного масла, ладана, свечного нагара, разгоряченного человеческого тела, толпы… И прежде всего — молитва, молитвенный настрой души… Да, уже и тогда я умел молиться — не только знал заученные слова молитв, но и находил свои собственные слова, обращенные к Господу,— слова благодарности, просьбы, восхваления.
В домовые, маленькие церкви мы ходили по вечерам, ко всенощной, а литургию я представляю почему-то непременно в большом храме и непременно в погожий, летний или весенний день, когда синеватый, пронизанный ладанным дымом солнечный столп косо падает откуда-то сверху, из купольного окна. Округло, выпукло блестит золото предалтарного иконостаса. Пронизанная светом пурпурно алеет в прорезях царских врат таинственная завеса. Все радует меня, трогает, веселит мое сердце. И раскатистые, гудящие возглашения дьякона, и наплывающие, набегающие на эти возглашения «Господи, помилуй» и «Подай, Господи!» хора, и истошный и вместе с тем веселый, радующий почему-то сердце крик младенца перед причастием, и запахи деревянного масла, ладана, свечного нагара, разгоряченного человеческого тела, толпы… И прежде всего — молитва, молитвенный настрой души… Да, уже и тогда я умел молиться — не только знал заученные слова молитв, но и находил свои собственные слова, обращенные к Господу,— слова благодарности, просьбы, восхваления. И всё это — не суета, не развлечение, всё это — часть ритуала. Не на ёлке свечки зажигаешь, не для себя, не для гостей — для Бога.
И всё это — не суета, не развлечение, всё это — часть ритуала. Не на ёлке свечки зажигаешь, не для себя, не для гостей — для Бога. Спускаешься с амвона, медленно следуешь за другими мальчиками и девочками, и за какими-нибудь дряхлыми старичками и старушками, к тому низенькому столику, на котором ждет тебя блюдо с белыми кубиками просфоры, большой медный кувшин или чайник, а рядом на подносе плоские серебряные чашечки с такими ручками, какие бывают на ситечках для чая. В чашках слегка розовеет прозрачная жидкость — тепло. Кладешь в рот два-три кусочка просфоры, запиваешь теплом. Ах, как хорошо!.. Подумал сейчас — никакие конфеты, никакая халва или пастила никогда не доставляли такого наслаждения. Но — нет, при чем тут пастила и халва? Эта радость — не гастрономическая, не чувственная. Это — продолжение, заключение того, что только что свершилось на амвоне.
Спускаешься с амвона, медленно следуешь за другими мальчиками и девочками, и за какими-нибудь дряхлыми старичками и старушками, к тому низенькому столику, на котором ждет тебя блюдо с белыми кубиками просфоры, большой медный кувшин или чайник, а рядом на подносе плоские серебряные чашечки с такими ручками, какие бывают на ситечках для чая. В чашках слегка розовеет прозрачная жидкость — тепло. Кладешь в рот два-три кусочка просфоры, запиваешь теплом. Ах, как хорошо!.. Подумал сейчас — никакие конфеты, никакая халва или пастила никогда не доставляли такого наслаждения. Но — нет, при чем тут пастила и халва? Эта радость — не гастрономическая, не чувственная. Это — продолжение, заключение того, что только что свершилось на амвоне.


 Листья Верности, может быть не самые красивые, но наверняка самые необходимые…
Листья Верности, может быть не самые красивые, но наверняка самые необходимые…